Приятная книга, герой даже побывал в Дерри и повстречался с детьми из "Оно". И в середине сюжет ещё симпатичнее меняет направление, как бы обманув, о чём будет книга.
Но кончается ничем и обидно.
Теперь я вспомнил, у Кинга часто так – но обычно хоть пополам с хорошим, "многое отдали, но кое-чего добились". А тут просто путешествие героя. Фродо пошёл к горе, многое вынес, постоял на краю вулкана, кольца не принёс, вздохнул и пошёл домой постаревшим. В жерло не свалился, вот и хэппи-энд.
Один способ, как можно объяснить книги – это в виде историй. Когда автор пишет, и когда мы читаем, в голове постоянно есть ощущение, как сейчас можно сказать, арки книги. Ощущение, о чём она.
Арка? Это не арка, во всяком случае, не в узком смысле, хотя вроде бы арочность важна.
История? В книге может быть много историй, но будет она всё-таки о чём-то одном. Может быть, о главной из этих историй, или о чём-то более общем.
"О чём она"? "Что хотела сказать"? Но речь не о морали книги, не об уроке, который она пытается преподать.
Но легко заметить, когда арка книги не в порядке. Дочитываешь книгу и не понимаешь, к чему она вся была. Было то и сё, затем пятое-десятое, конец, а зачем это нам было знать? Или даже внутри книги какие-то маленькие истории и вызывают сочувствие, но в итоге всё равно непонятно, что началось и что закончилось ("100 лет одиночества").
Бывает, наоборот, случайные события или пересказ исторических событий складываются в историю, хотя никто этого не задумывал.
Чем _история книги_ отличается от множества историй в этой книге? Может, тем, что _история_ управляет чувствами? У истории должно быть начало, это момент, когда мы начинаем чего-то хотеть. У неё должен быть конец, когда мы получаем или не получаем желаемое. Часто история может обманывать нас, объясняя нам наши желания сначала одним, а потом другим, более глубоким образом.
Но видимо, чувства должны появиться сразу, чтобы потом история была цельной.
Например, история "11-22-63" сразу вызывает ностальгию путешествием в прошлое. Мы хотим, чтобы герой отправился в прошлое, чтобы там мы (а особенно американцы) посмотрели на всё, что ушло, на тёплый мир детства.
А также, и это тоже вызвано сразу же, чтобы мы исправили несправедливости, чтобы, зная больше других, помогли своим друзьям, чем обычно заслужили бы благодарность.
И на полпути книга вдруг делает поворот и как бы говорит: ты видишь свои тёплые чувства, свои тёплые желания? Я разгадаю их по-другому. Ты хотел не прошлого, ты хотел уюта и тепла, доверия и любви, какие у тебя были в детстве. Ты хотел не геройствовать, ты хотел защитить любимых и друзей.
Книга всегда была о любви, ты просто не замечал. В этом её арка.
И когда арка нарисована, у неё должно быть законное продолжение. Мы должны получить, или не получить, то, что хотим. Герой должен принять эти чувства, и это будет арка о понимании важного. Или пожертвовать ими.
Подумав некоторое время, вот ещё, что я надумал.
Книги по своей сути истории, а истории рассказываются с какой-то целью, с целью описать какое-то событие достаточно полно, чтобы другие смогли понять, чем оно интересно или смешно, или поучительно. С этой целью рассказчик, зная, к чему ведёт, выбирает предпосылки и строит контекст.
Поэтому и в книге событие не может быть просто событием, оно должно быть предпосылкой для чего-то, необходимой подробностью. И наоборот, поскольку рассказчик ставит акценты на важном, подчёркивает, приближаясь к сути своего рассказа, то подчёркнутые, важные по интонации события должны следовать из множества всего, что было сказано прежде. Такая ситуация, когда важнейшее в сюжете событие ни из чего не следует, и даже не только не следует – ничему не противоречит, ни для чего не неожиданность (поскольку всё это тоже форма предпосылки) – это редкость, и мы это ясно увидим по интонации.
Поэтому сам формат рассказа означает, что важные события собирают в себя множество сказанного прежде, нам остаётся только поискать и понять – что именно. И таким образом, важные события перестраивают всё прошлое рассказа, поясняют его, дают понять, для чего и с каким смыслом автор это рассказывал.
И точно так же, важные события должны сами быть предпосылками для ещё более важных, иначе зачем они со всем своим хвостом были собраны и встроены в рассказ?
Таким образом, рассказ получается как река, он собирается из мелких ручейков, которые сливаются вместе, в крупные потоки, в мощные русла, которые могут соединяться, а могут схлёстываться.
И в таком представлении я могу сказать, что неправильно в "11-22-63". Во-первых, Ли Харви Освальд. Вся история Ли Харви Освальда это череда ручейков, которые никуда не втекают. Крупного русла не образуется. Мы не начинаем ненавидеть Освальда, другой поток не заставляет нас потом изменить своё мнение и понять, или даже полюбить его. Рассказанное не складывается и не вычитается. Именно так выглядят документальные книги, поскольку история часто лишена драматического сюжета.
Во-вторых, противоречие на границе первого и второго томов. Весь первый том рассказ собирался в ручейки и русла, превратившись в два мощных потока: желание героя исправить прошлое, и его желание спасти Сэйди. На каждой чаше весов – длинная история и связанные с ней чувства. Но Сэйди побеждает. И мы это знаем так твёрдо, что нам не нужно объяснять мотивы героя в конце тома. Мы и так знаем, что он думает и как поступит. Огромный поток столкнулся с другим, и второй, в своём накопленном величии, послужил сравнением для необъятности первого; первый смял его, и автор не трудится описывать, как – не было даже спора.
И вот, во втором томе, внезапно, перед нами совершенно другой поток: история о том, что время исправлять нельзя потому, что получается только хуже.
Такие истории бывают. Они бывают интересными. Они копят свои потоки, собирают ручьи в ту и в другую сторону, сталкивают их, умножают, и в конце концов сводят вместе – огромные надежды и огромные опасения, всё большие признаки провала и полное нежелание их видеть. Например, "Хладбище домашних любимцев" так устроено. Помните, как сложился из мелочей ручеёк о воскрешении кота? А помните, как неожиданно потом обернулся звучавший совсем негромко сюжет об их малыше? А как эти ручьи слились? А как из них получился ещё более страшный, про его жену? Вот как набирает силу такой сюжет.
Здесь ничего такого не было. Вообще ничего не было в этом русле. Чуть-чуть про сопротивление времени, но это не набрало силу, осталось небольшой вспомогательной темой.
И вот, внезапно, мощные русла, собравшиеся из всей первой части книги, исчезают, а вместо них появляются другие, в которых нет воды. Замазкой склеен переход.
Три несвязанных потока:
– Ли Харви Освальд – оторванный от всего поток, не собирающийся ни во что
– Сэйди – суть книги
– И неудачи от перемены времени – совершенно другой сюжет, возникший из неоткуда
Вот почему книга выглядит странной.
Ни одно исправление не привело исключительно к худшему. Наоборот, почти все получились неплохими. В той степени, в какой неплоха случайная жизнь. И вдруг герой отказывается от всех? Потому, что какая-то "загадочная сила времени" ему противостоит?
Ничего подобного не было в первой половине книги!
Что-то странно не клеится, и у меня есть догадка, почему.
Кинг говорит, что пытался написать эту книгу ещё в 1975г. Вот что, я думаю, произошло. Кинг написал тогда всю первую часть. Всё, кроме "Человека с зелёной карточкой". В этом месте проходит явный водораздел, им первая книга заканчивалась. Дальше Кинг хотел написать второй том, но почему-то не смог. Возможно, сюжет оказалось приятнее воображать, чем проживать в подробностях.
И вот, спустя много лет, он достал эту рукопись, и решил с ней что-то делать.
Но достал её уже другой человек. Теперь он забыл, в какую воду входил прежде. В его руках была чужая рукопись, и он принялся её исправлять. Доделывать то, что было не в порядке.
Он изучил подробно всё об убийстве Кеннеди, и все эти подробности внёс в книгу. Предположив, что возможно, из неё получится документальный роман. Что если книгу превратить в документальный роман, станет понятно, зачем она. Всё это было бесполезно. Освальд у Кинга неинтересен. И это неудивительно. Писатель отвечает перед красотой, учёный перед точностью; если Кинг взялся не погрешить против истины, то он взялся написать скучных героев.
Мира "Что бы было, если бы" в прежнем варианте наверняка не было. Даже наоборот, возможно, был хороший мир, от которого герой отказался. Кинг, опять же, старательно выяснил у друзей-политологов самые плохие варианты альтернативной истории, о чём сам пишет. Получилась формальная ерунда, проведя в которой день, герой ставит галочку "и это повлияло на него решительным образом и переменило все его взгляды".
Загадочный пьяница у выхода из норы своим присутствием намекает, что у времени есть другие, более сложные тайны, которые герою ещё предстоит узнать. И вдруг эту загадочность стравливают, так и не использовав.
Герой с разбегу из первого тома влетел в ненужном направлении, сделал десяток шагов, останавливаясь, развернулся, и поплёлся назад. Конец.
То есть, весь "Человек с зелёной карточкой" – это затыкание и подшивание половины пантеры, чтобы хоть в каком-то виде выпустить её в свет:
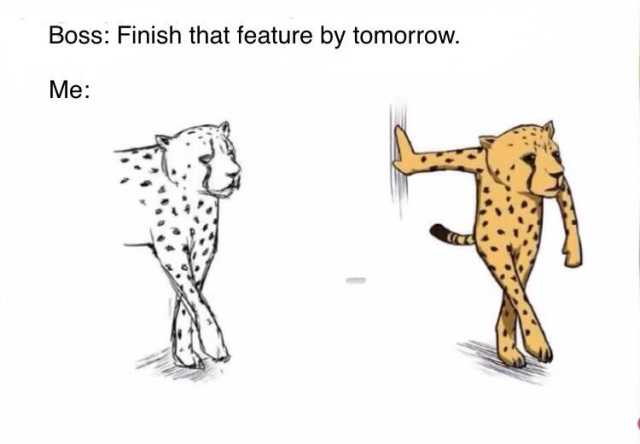
Что теперь с этим делать?
Не знаю, что сделал бы Кинг, мне приходит в голову вот что.
Герой, о котором мы читали, выиграть не сможет. Пусть авторским насилием и произволом, но он принял свои решения. Для него исправляться слишком поздно. Но это книга о путешествиях во времени. Другой главный герой, моложе на 5 лет, может вернуться в 1958 и всё повторить. Как дополнительный плюс, нам не придётся заново смотреть все события! Их можно пропускать, останавливаясь только на новом. И нас не будет смущать, что герой проживает свои чувства вторично каким-то менее искренним образом, чем в первый раз.
Новый герой это деятельная сила, которая может заставить главного героя ещё раз подумать и выбрать иначе, лучше.
Что же делает первый герой? А вот что: он помогает второму не совершить своих ошибок. Вот в такой форме redemption arc вполне возможен. И даже bittersweet ending, потому, что сам он всё потерял.
Поскольку "закон, что от перемены всё будет плохо" в первом томе никак не объяснён, и даже и не виден, а герой просто уверовал в него приказом свыше, я считаю, его можно выкинуть, и настоящая природа времени в чём-то другом. Но спасать Кеннеди нельзя, раз уж мы видели, к чему это приведёт. Будет забавно, если герой не будет мешать молодому себе действовать как прежде (по тем же причинам: чтобы не нарушать ход событий), но в последний момент сам пристрелит Кеннеди вместо обезвреженного Освальда и окажется вторым стрелком.
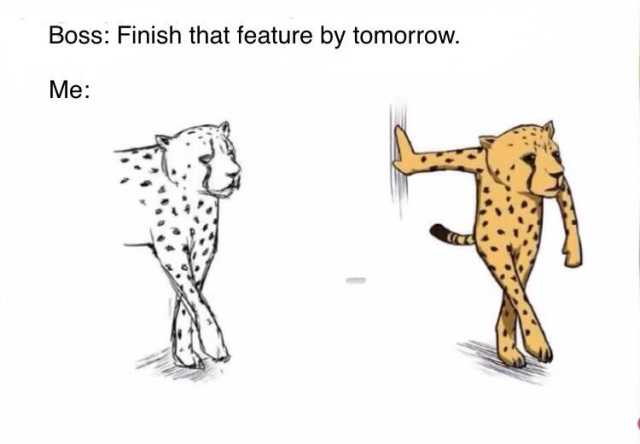
 Хотелось бы быстрее, выше, сильнее, финальный аккорд! А получилось темнее, темнее, темнее, дерёмся до звонка. Что-то сломалось в Пакте в последней трети и автор дописывал его на злости, а не волшебной фантазии.
Хотелось бы быстрее, выше, сильнее, финальный аккорд! А получилось темнее, темнее, темнее, дерёмся до звонка. Что-то сломалось в Пакте в последней трети и автор дописывал его на злости, а не волшебной фантазии.